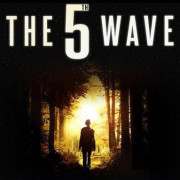Все началось в харбине (2013)
Содержание:
Возвращение в храм
Впервые в Советском Союзе я переступил порог храма только в 70-х годах. Это было в литовском городе Друскининкай, церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Не выдержал. До этого даже не признавался, что верующий… После Литвы в Саратове скрываться больше не стал. Ходил в Духосошественский собор. И там меня заметил Архиепископ Пимен. Когда мы с ним познакомились (что интересно — представили меня ему люди совсем нецерковные), он мне сразу сказал: «Я вас увидел, когда благословлял народ с амвона, и тут же понял, что вы — будущий диакон». Это был 1977 год.
Через несколько дней после нашего знакомства Владыка подал прошение уполномоченному по делам религий: меня рукоположить. А уполномоченный и ответил: «Даю вам честное слово, что ни в одной епархии его не посвятят в сан»… Дело было в том, что я — из Харбина, знаю несколько языков, отец мой — враг народа… Владыка Пимен тогда просто взял меня на работу, сначала — архивариусом, затем секретарем, потом я стал кем-то вроде личного секретаря. Особенно много работы у меня было перед Пасхой и Рождеством. Приходилось отвечать на 600-700 писем со всего света: от патриархов, епископов, ученых, художников, музыкантов…
В 1988 году все уполномоченные исчезли. И в 1989 году Владыка Пимен меня посвятил в сан диакона. Это было 3 декабря. Помню, меня еще покойный отец Василий Султанов по Духосошественскому собору водил… А я до этого Архиепископу сказал: «Владыка, благословите быть диаконом один день». — «Почему?». — «У меня нет вокальных способностей, а я терпеть не могу безголосых диаконов»… И вот, 4 декабря, на Введение во храм Пресвятой Богородицы, в Троицком меня рукоположили во иереи… Я держался очень спокойно, даже сам себе удивлялся, ведь такое событие!
Помню, стою на коленях перед престолом, Владыка накрыл меня епитрахилью, стал читать молитвы… И в тот момент, когда он коснулся меня, я вдруг разревелся. Стою на коленях, плачу, ничего не могу с собой поделать. Знаю, что Владыка очень не любит слез, и думаю: «Сейчас как цыкнет на меня»… Но не могу остановиться, слезы катятся и катятся по щекам. Встал весь зареванный. Владыка все понял, конечно. Вот так я стал священником…
С момента хиротонии и до сего дня я служил в Свято-Троицком соборе. Только здесь. Я Владыке Пимену дал слово, что никуда не уйду… Перед посвящением он хотел поставить меня настоятелем в храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который только-только открылся. Но я очень просил не делать этого. Ведь настоятель, кроме крепкой веры во Христа, должен иметь еще что-то, дополнительные свойства характера. Лучше быть двенадцатым священником в любом храме. Владыка только сказал: «Воля ваша».
***
Многие, когда говорят о Владыке Пимене, вспоминают о его любви к кошкам. Об этом действительно легенды ходили.
Помню, мы жили с ним в Киеве на Подоле у его тетушки. И как-то гуляли, зашли на безлюдную горку, а там — скамейка. Владыка и предложил: «Давай посидим минут пять, отдохнем». Сели мы, и вдруг смотрю: откуда ни возьмись на пустой скамейке рядом с Владыкой сидит кот, прижался к нему. Животные чуяли его любовь, тепло.
Кошка у Владыки Пимена была, звали Мурзик. Почему Мурзик? Ее брали, как кота, а потом у этого кота появились котята. И стали кота называть Мурзою… Так вот, когда у Владыки были гости, он с Мурзой демонстрировал фокусы.
Кошка садилась на стул у стола и сидела с умным видом. Владыка брал кусочек хорошей колбасы и говорил ей: «Мурза, это — колбаса, это очень вкусно, но жутко вредно — холестерин и все такое. Но как хочешь, можешь съесть, конечно». И клал перед кошачьей мордой кусочек колбасы. Мурза презрительно его оглядывала, нюхала и отворачивалась. Тогда Владыка брал мякиш черного хлеба и говорил: «А это, Мурза, очень невкусно, но очень полезно. Это клетчатка…». Кошка с упреком смотрела на хозяина, но начинала есть… Много всего было.
Украина. Арест родителей
Все русские очень любили китайский город Харбин, их приютивший, но больше они любили родину. И мы всей семьей вернулись в Россию в 1937 году. Мой отец не хотел верить тому, что на родине происходили кровавые события: аресты, репрессии… Он твердил: «Меня тянет на батькивщину».
Между харбинцами, уехавшими и оставшимися, был уговор. Если в России все было плохо, в Харбин нужно было прислать письмо с кодовой фразой: «Здесь все хорошо, когда приедете, остановитесь у Калашниковых». Калашниковы — белоэмигранты — и в России ни за что не могли оказаться, поэтому фраза эта означала: нельзя ехать. Отец и мама получали письма с этой фразой, но тем не менее мы поехали. Папа рвался на родину, в украинский город Каменец-Подольский. При этом ничему плохому он верить не хотел, но кто-то ему сказал, что в Стране Советов плохо со стоматологами. И он отвел меня лечить зуб. Харбинская пломба цела до сих пор.
Наше знакомство с Россией произошло на станции Отпор: в вагоне харбинцев был устроен обыск. Меня поразило то, что в Союз не разрешали ввозить пластинки Петра Лещенко. Те, кто об этом знал, наклеивали на конверт фамилию Бетховена.
Когда мы приехали, пришлось снимать комнату в полуразвалившемся доме. Через месяц папу арестовали.
Была осенняя ночь, холодно. А на отце — только брюки, с короткими рукавами рубашечка, на босу ногу сандалии. Мама плачет, он ей говорит: «Поля, что ты плачешь? Не волнуйся, все выяснится, я через полтора часа домой приду». До сих пор он идет…
Отцу дали десять лет без права переписки. Это значило одно — расстрел… Маму забрали через месяц. Причем в Каменец-Подольске нас очень полюбили, и одна девушка, работавшая машинисткой в НКВД, вечером перед арестом прибежала к нам и говорит: «Тетя Поля, я печатала сегодня ордер на ваш арест». Храбрая, ведь если бы на нее донесли, то и она бы оказалась в тюрьме… Мы — мама, Галя, я — просидели всю ночь, обнявшись. Только в шесть утра постучали в дверь. Пришли двое, сделали обыск. Один из энкавэдэшников порезал руку. Мама, бедная, ему рану йодом обрабатывала, бинтом забинтовывала, а он даже спасибо не сказал…
Нас, всех троих, вывели на улицу, мы вместе дошли до перекрестка. Маму повели в одну сторону, нас с Галочкой — в другую. Так мы стали детьми врагов народа, детьми арестованных.
Жизнь после. Саратов
Мама попала в Актюбинский лагерь для жен изменников Родины, сокращенно — АЛЖИР. Меня и Галю отправили в детский дом в селе Веселово под городом Лепелем в Витебской области. Здесь жили дети репрессированных, в основном с Украины.
Надо сказать, что в детском доме к нам очень хорошо относились. Мы, воспитанники, часто вместе собирались и пели песни. А женщины из числа обслуживающего персонала слушали и плакали… Здесь была очень неплохая школа, чудесный лес вокруг, изумительный директор — Сима Соломоновна Элькина.
Когда стали постарше, переехали в Саратов. Сюда из Харбина вернулась бабушка и тетя Ксения, мамина сестра и моя крестная. Но года не прошло, как умерла Галя… Я как-то вынес все, что с нами произошло, а она сломалась. Мы же из той жизни, в Харбине, жизни самого фешенебельного плана, попали в аресты, расстрелы, детские дома… Кстати, у меня в Китае перед отъездом нашли порок сердца. Сказали, что если я дотяну до 18 лет — это будет чудо, даже хотели освободить от занятий в школе. Но в Саратове врач сказал, что у меня нет даже намека на болезнь. Может быть, повлияла резкая перемена климата…
Харбин. Детство
Харбин был изумительный город, центр Православия в Китае. Над ним возвышались купола 26 храмов. Сейчас из них действует только один — Покровский, где регентом служил мой отец… По сути, Харбин был русский город. Архитектурно он напоминал наши поволжские города: Кострому, Нижний Новгород. Дома невысокие, очень красивые — в стиле модерн, неоклассицизма. Все в зелени, кругом сады.
Китайцы жили на окраине, в пригороде. Более очаровательного народа, чем китайцы, я в жизни не видел. Добрые, терпеливые, быстро приспосабливались к условиям жизни. Сейчас все изменилось, наверное. А во времена моего детства если велосипед был оставлен посреди дороги, то мог так стоять месяц…
Конечно, были в Харбине костелы, мечети, синагоги. Вообще, там царила атмосфера потрясающей терпимости. До сих пор помню харбинский «институт» газетчиков: мальчишки бегали по улицам с большими сумками и продавали газеты. Одновременно в сумках у них лежали «Новости Востока» — газета советского посольства, «Наш путь» — фашистская газета, «Харбинское время» — японский листок. На любой вкус, пожалуйста! По улице могла ехать машина со свастикой, навстречу ей — автомобиль с серпом и молотом. Никто внимания на это не обращал, все к этому очень спокойно относились. Вот такой был Харбин…
Владыка Пимен
Владыка Пимен был человек потрясающий. Прежде всего — человек. И потом — потрясающий.
Помню такой случай. Великий пост, Страстная неделя, я, еще не будучи в сане, готовлюсь к причастию, говею. Основным секретарем Владыки тогда был отец Василий Байчик. Заходит Владыка: «Где отец Василий?». Говорю: «Да он еще не пришел, служба, наверно, не кончилась». Он тогда был настоятелем в Троицком соборе. Второй раз пришел Владыка, третий. И все время так нетерпеливо ко мне: «Ну где может быть отец Василий?». Я человек спокойный, только вдруг что-то не выдержал и сказал ему во время четвертого или пятого визита: «Да где же я Вам возьму Байчика-то?». Владыка схватил какой-то указ со стола, смял его в мячик и бросил. Не в меня, мимо. И выбежал. Через минуту я в себя пришел. Что со мной было — словами не передать. Весь день я ходил, как тень, места себе не находил. В десять вечера позвонил Владыке. «Владыка…». — «Да!». — «Благословите, это Евгений Ланский». — «Что такое?». — «Владыка, простите меня, пожалуйста». — «За что?» — «За сегодняшнюю грубость». — «Да мало ли что бывает? Бросьте это дело немедленно. Я уж и не помню»…